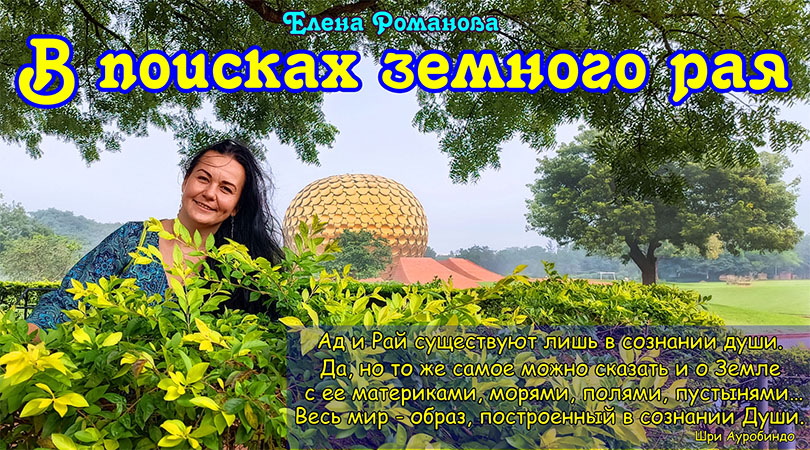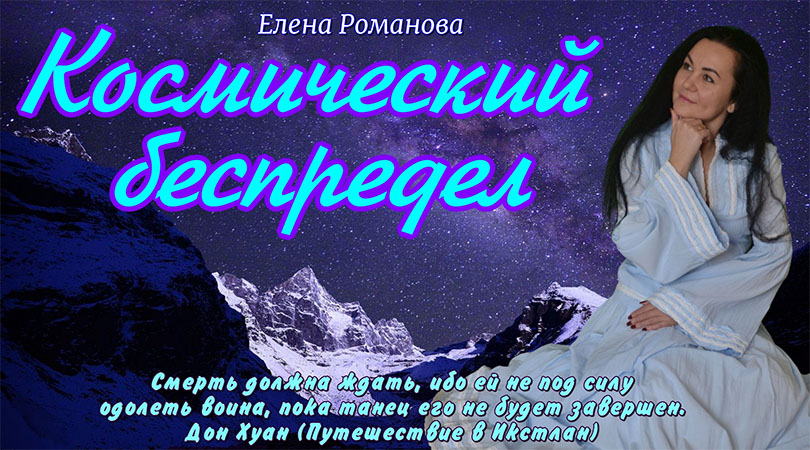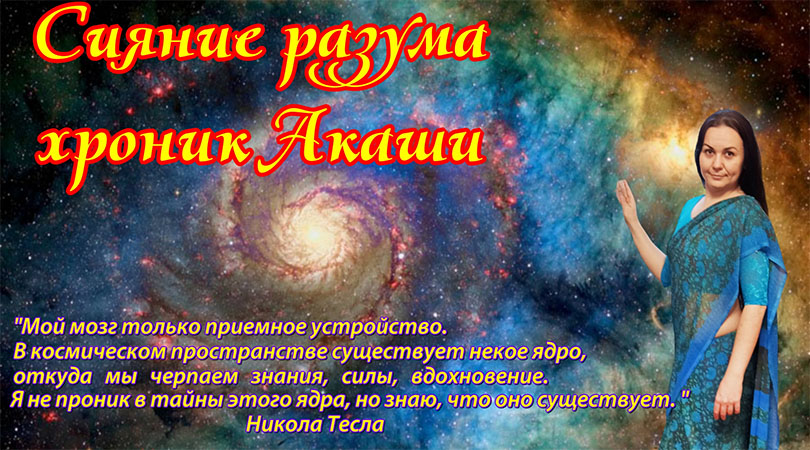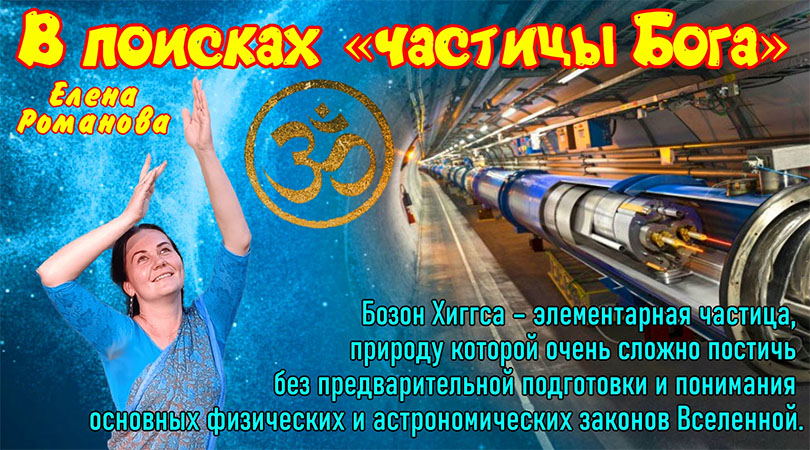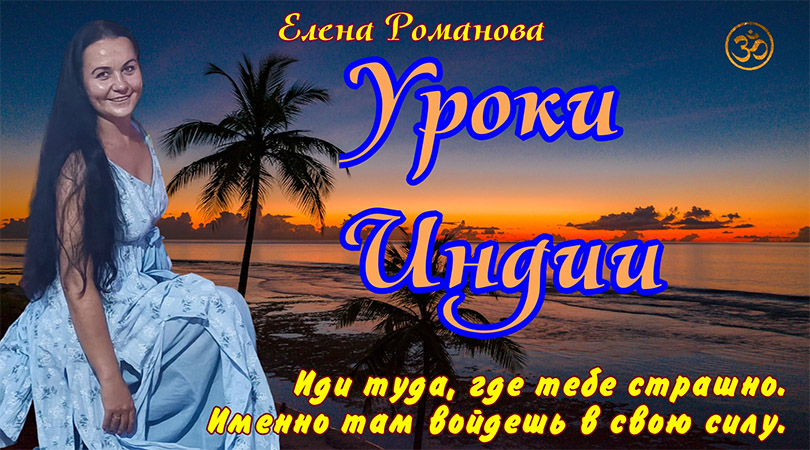Продолжение. Начало этой истории здесь.
Предыдущая глава
Суровое испытание: приговор приемной комиссии
Когда я поступала в институт культуры, меня ждало первое, суровое испытание. Им стал не только экзамен по хореографии, сколько речь председателя приемной комиссии. Пожилая женщина с усталым, но пронзительным взглядом обвела нас, юных, трепетных и пахнущих надеждой, и вынесла приговор:
— Отбросьте все иллюзии, — сказала она, и ее голос прозвучал как скрежет замка на воротах в райский сад. — Ваше будущее не будет светлым и прекрасным. Эта профессия — для фанатиков. Для тех, кто готов на титанические усилия ради скупых аплодисментов и нищенской зарплаты. Вам придется много трудиться на трех работах, чтобы обеспечить себя. Или… для тех, у кого есть тот, кто согласится содержать вас всю оставшуюся жизнь.
Воздух в аудитории выдохнул. Но во мне что-то уперлось. Я прекрасно понимала, что дело не в корочке диплома, которая в этом мире значила меньше, чем стоптанные пуанты. Мне нужны были эти навыки, как птице нужны крылья — не для того, чтобы парить на сцене, а чтобы чувствовать ритм жизни, ее пластику, ее скрытую музыку, которую не слышат другие. Беспокоиться о далеком и туманном будущем мне попросту не хотелось. Я жила в настоящем, а в нем был танец. На тот момент я не мыслила себя без него.
Жизнь, как оказалось, не просто отрезвляет. Она берет твои розовые очки и с хрустом разбивает об асфальт, предлагая взамен посмотреть на осколки и сложить из них реальную картину. Из всех моих однокурсников, таких разных, но всех мечтавших о сцене, насколько я знаю, никто сейчас не работает по специальности. Жизнь развела нас по разным углам: кто-то шьет куклы на продажу, вкладывая в них несостоявшуюся грацию, кто-то носит подносы в престижном ресторане, отрабатывая па де буре между столиками, а кто-то просто растворился в быте, рожая детей.
Некоторые же и вовсе пошли учиться дальше другим профессиям, не желая работать за копейки. Танцевальное прошлое для них стало не фундаментом, а милым, но бесполезным украшением, как засохший цветок между страниц старого учебника.
Испытание на прочность и борьба за выживание
А потом грянул гром. Я осталась одна с малолетним сыном на руках. После развода мир сузился до размеров комнаты, где главными звуками были не музыка, а тиканье часов и вопрос: «Как выжить?». Бывший муж отрезал все мосты одним циничным: «Ничего тебе не буду давать». Но ведь эти деньги были нужны не мне — они были необходимы для его же сына, для еды, для одежды, для будущего, которое из туманного вдруг стало пугающе конкретным.
И в тот самый момент, когда логика и отчаяние шептали: «Сдавайся. Ищи другую работу. Забудь…», — во мне поднялся бунтарь. Уходить с выбранного пути не хотелось. Вернее, я не могла. Потому что это был не просто «путь». Это была моя единственная опора, где я чувствовала себя не жертвой обстоятельств, а сильной и цельной.
Танцевать, когда рушится мир? Да. Именно тогда это и нужно. Именно тогда танец из искусства превращается в молитву. В акт сопротивления. В историю, которую ты рассказываешь сама себе, чтобы не сломаться. Каждое движение становилось утверждением: «Я есть. Я чувствую. Я живу». Это была уже не хореография для зрителей, это был боевой ритуал для себя, напоминание о том, что внутри живет не только мать и неустроенная женщина, но и сила, и грация, и красота — то есть то, что никто не может у меня отнять.
И я поняла простую вещь: нас с однокурсниками развели не обстоятельства. Нас развел выбор. Они согласились посмотреть на осколки своих розовых очков и увидели, что ошиблись в выборе своей профессии. А я подобрала самый острый из них и начала им резать — резать петлю отчаяния, ткань безысходности, ковровую дорожку, которую жизнь постелила не туда.
И я сделала шаг навстречу своему пути. Не как в бегство от реальности, а как на единственную твердую землю под ногами. Этой землей стал танец.
Мои первые группы были детскими. Их энергия, неподдельный восторг от самого движения воздуха вокруг танцующего тела стали для меня живой водой и лучшим лекарством. Мы не просто разучивали па — мы строили хрупкий мост между миром реальным и миром, рожденным музыкой. На наших занятиях, этом маленьком островке легкости, не было места взрослым проблемам. Мы много говорили об образах: о том, как быть нежной снежинкой, порывистым ветром, могущественным деревом. Я наблюдала, как эти метаморфозы меняют не только пластику, но и самих детей — застенчивые расправляли плечи, сутулые — тянулись к солнцу, нетерпеливые — учились слушать ритм. Танец лепил не только стройные фигуры, но и души, воспитывая уважение к себе и друг другу.
Затем пришли первые конкурсы. И победы в них стали для меня не столько триумфом, сколько тихим, нерушимым подтверждением: твой внутренний компас точен. Ты идешь верной дорогой.
Я научилась видеть танец под разными углами. Это была не одна тропа, а целая разветвленная дорога. Я вела группы для взрослых, возвращая их телам гибкость, а душам — радость. Я погрузилась в телесные практики — йогу, цигунн…, изучая, как движение исцеляет и укрепляет организм. Я выходила на сцену сама, чувствуя, как энергия зала питает каждую клетку. А еще я создавала эксклюзивные свадебные танцы, вплетая в хореографию историю любви двух людей, давая им в руки ключ к диалогу без слов — к гармонии, целостности и единству на самом старте их совместного пути.
Я пишу это к одной простой мысли: любую профессию, любое призвание можно развернуть под разными ракурсами, открывая в нем все новые грани. Но для этого нужна не только смелость. Нужна любовь. Та самая, что заставляет преодолеть силу начального притяжения страха и малого достатка, чтобы в итоге парить в своей стихии. Это и есть тот ключ, который многие знают, но боятся вставить в замок.
Между творчеством и бюрократией
Эта настойчивость, проросла неожиданным предложением: меня пригласили на работу сначала художественным руководителем, а потом и заместителем директора по художественной части в один из дворцов культуры. Из мира чистого творчества я шагнула в мир, где искусство должно было уживаться с бюрократией, сметами и отчетами.
Мой непосредственный начальник, директор, был человеком удивительного склада. Он искренне считал, что руководить — значит не создавать, а контролировать. Его идеалом был безупречный график прихода и ухода сотрудников, а вершиной управленческого гения — едкие замечания в их адрес за малейшую провинность. Он мастерски имитировал бурную деятельность, порождая вокруг себя вихрь бумаг и приказов, суть которых сводилась к одному: «сделайте, а я проверю».
Естественно, вся реальная, живая работа легла на мои плечи и плечи сотрудников. Я писала сценарии праздников, в которых была душа, а не сухие строки из идеологического справочника. Я часами сидела в фонотеке, подбирая музыку, которая заставит зрителей смеяться или плакать. Я стала и режиссером, и худруком, ведущим, а порой и артистом одновременно. А еще — главным щитом. Меня постоянно посылали «на передовую» — отдуваться в Министерстве культуры за все недочеты нашей организации, которых было немало благодаря «эффективному» руководству прежнего работника на моей должности.
Но, как ни странно, вся эта административная волокита и необходимость постоянно быть «козлом отпущения» меня не пугали и не озлобили. Во мне жило стойкое ощущение, что это — лишь временный этап, важная, но не конечная станция. Я смотрела на это как на уникальный и бесплатный мастер-класс по выживанию в системе. Любое дело, даже самое нудное, давало бесценный навык.
Я училась планировать. Но не в сухом, бюрократическом смысле этого слова. Я училась чувствовать время, как дирижер чувствует такт, распределять силы так, чтобы к нужному часу было готово абсолютно всё — от грандиозного спектакля, в который вложена душа, до того самого абсурдного отчета о «проделанной работе по профилактике алкоголизма».
Еще тогда меня не покидала мысль: показывать людям, «как не надо», и пытаться запугать их — путь в никуда. Это никогда не работало. Страх — плохой мотиватор. Но рамки были жесткими: любое наше мероприятие должно было облачаться в лоскутное одеяло традиций, где новое слово должно было быть похоже на старое, проверенное. Возможности учреждения, как и его скудное финансирование, напоминали тесные рамки уже написанной картины — разгуляться новой кисти было практически негде.
И мы искали свои ходы. Мы не пугали, а увлекали. Не запрещали, а предлагали альтернативу — энергию танца, радость творчества, тепло живого общения. Мы вкладывали в устаревшие формы новое, живое содержание, как в старую вазу ставим свежие цветы. Это было наше искусство быть собой в системе, которая этого не поощряла.
Я училась говорить: находить нужные слова и для назойливого посетителя, требующего билеты на закрытое мероприятие, и для чиновника из министерства. И да — я научилась мягко, но неумолимо ставить людей на место, если они переходили границы. А границы пытались размывать постоянно, в силу моего молодого возраста – мне не было и 30.
Я училась уверенности: не той, показной, что демонстрирует зачастую начальство, давящее своим статусом, а настоящей, идущей из глубины. Умение выйти на сцену перед тысячной аудиторией и вести праздник, улыбаясь, когда внутри все сжимается от усталости, — это особое искусство. Оно закаляет дух лучше любой медитации.
Я еще не знала, как именно сработает этот странный коктейль из творчества и бюрократии, танца и отчетности. Но я интуитивно чувствовала: все эти нити — и золотые, и серые — сплетутся однажды в единый узор моего предназначения. Пока же я просто собирала их, одну за другой, веря, что ничего в жизни не бывает зря.
Материнское сердце: разрыв между работой и сыном
В те дни время сжималось, как пружина. Мои трудовые будни чаще всего длились по 16 часов. После вечерних мероприятий я возвращалась домой с другого конец города затемно. Город засыпал, зажигая редкие окна, а я, прижимаясь к холодному стеклу автобуса, ловила себя на мысли, что пропускаю самое главное — взросление собственного сына. Входила в квартиру на цыпочках. Он уже спал. Я стояла в дверях его комнаты и слушала его ровное дыхание, терзаясь чувством вины оттого, что не могу уделить ему достаточно времени, заниматься воспитанием, как того хотелось бы.
Мы жили в съемной квартире, за которую я отдавала больше половины и без того скромной зарплаты. Каждый рубль был на счету. Но в этом скромном, пусть даже не совсем нашем пространстве царила огромная любовь. И для меня это было очень важно. В этом пространстве я могла сотворять собственный мир, таким красивым, как я хотела.
Сын, тонко чувствуя мое вечное напряжение и усталость, старался изо всех сил помочь. Он, еще ребенок, научился готовить. И самый счастливый момент моего дня был тот, когда, переступая порог, я вдыхала не запах одиночества и пыли, а аромат свежеиспеченных блинчиков, оладьев или незамысловатого салата. Это был его безмолвный способ сказать: «Мама, я с тобой. Мы команда».
Сегодня я вижу, сколько вокруг матерей-одиночек воспитывающих сыновей. Эта ноша — особая. Мы вынуждены брать на себя не только материнскую мягкость, но и роль, которую традиционно отводилась мужчинам: быть оплотом силы, принимать жесткие решения, нести на своих плечах груз абсолютной ответственности. У меня это получалось через силу, с надрывом, не так гладко, как хотелось бы. Во мне жили два человека: уставшая женщина, мечтающая о поддержке, и «железная леди», которая должна была тащить все самой.
«Белый Ветер»: глоток свободы
Внутри меня зрело тихое, но настойчивое брожение. Смотря на отлаженную механику стандартных мероприятий, я с тоской ловила себя на мысли: где же тут жизнь? Где искра, которая зажигает сердца, а не просто отчитывается о «проведенной работе»? Я изголодалась по настоящему делу — по команде, сплоченной не приказами, а общими ценностями, по живым, а не шаблонным смыслам.
Мне отчаянно хотелось научиться другому — тому, как создавать события, которые меняют людей, а не просто заполняют их время. Эта жажда стала таким же насущным чувством, как потребность в глотке свежего воздуха после долгого нахождения в душном помещении.
И вот однажды, будто в ответ на мои внутренние запросы, мне попадается на глаза объявление. Его текст словно светился изнутри. Небольшая организация с поэтичным названием — «Белый Ветер» — набирала стажеров. Они создавали «незабываемые мероприятия, объединяющие людей». «Мы учим вовлекаться, проявлять себя и получать яркий опыт. Наши программы — это не развлечения, а развитие, преодоление и команда», — гласил текст.
Это было оно. То самое. Не просто новая работа, а шанс на глоток той самой, настоящей, свободной и осмысленной жизни, о которой я так мечтала.
Мое сердце отозвалось надеждой. Это был шанс! Шанс научиться чему-то настоящему и дать сыну то, чего не могла дать я, — мужскую среду, дух преодоления, возможность личностного роста и опыта побед, а также научиться быть частью команды. Я ринулась туда, как утопающий — к плоту.
Меня приняли стажером. Целый год, жертвуя единственными выходными, я погружалась в совершенно новую вселенную — мир командообразования. Это была страна живых легенд, веревочных курсов, испытывающих на прочность, и песен у костра, рождающих доверие. Мир, где ценностью были не оценки, а взаимовыручка, не соревнование, а сопричастность.
Вскоре я стала брать с собой сына, открывая для него эту реальность. Здесь, в увлекательном квесте, детей учили не алгебре, но алхимии человеческих отношений — доброте, эмпатии, искусству поддержки. Через игру они постигали основы бытия: как добыть огонь без спичек, поставить палатку с закрытыми глазами, отличить съедобный корень от ядовитого. Преодолевая «контролируемые трудности», они буквально взрослели на глазах, обрастая не знаниями из учебников, а уверенностью в себе, самостоятельностью и той самой внутренней силой, которая дорогого стоит.
Апофеозом этого пути для сына стала легендарная программа «Дети шпионов» в зимнем Ижевске. Пока сверстники грелись у телевизоров, его группа в лютые морозы встречала Рождество в палатках. Они не выживали — они жили полной жизнью, постигая суровую науку стойкости и взаимовыручки.
Я никогда не забуду его рассказ о той волшебной ночи: заснеженный лес, хруст веток под ногами, костер, разведенный несмотря на стужу, и чай, заваренный под небом, усыпанным бессчетными звездами. Это тот опыт, что врезается в память навсегда, закаляя характер лучше любых слов. А его позывной — «Амфибия» — стал символом того, что он научился выживать в любой среде, оставаясь самим собой.
Этот опыт стал для него одним из самых ценных уроков в жизни — уроком стойкости, братства и настоящего мужского характера.
Я смотрела на него, вернувшегося с этого «экзамена на прочность» — с обветренным лицом, уставшего, но невероятно взрослого и одухотворенного, — и понимала: я сделала правильный выбор. Я нашла способ дать ему самое главное, даже если сама не могла быть для него всем.
Но мне, вечной искательнице, и этого было мало. Мое материнское сердце чувствовало: сыну нужно нечто большее, чем даже суровые уроки «Белого Ветра». Наслушавшись легенд о школе академика Щетинина в Краснодарском крае, я, не раздумывая, решила использовать свой отпуск для этой, казалось бы, безумной поездки. Моей целью было одно — чтобы его приняли на обучение.
Эта школа была иной вселенной. Там царил дух, совершенно немыслимый для обычной системы. Дети там не были пассивными потребителями знаний. Они были инициативными, осознанными созидателями. Они сами строили свои храмы знаний, мастерили мебель, выращивали еду, готовили — они обслуживали себя сами, превращая быт в акт творчества и совместного труда. Они были личностями, а не просто «учениками». И это был именно тот дефицит, который я остро чувствовала в воспитании своего сына и всех детей вокруг.
Почему «все лучшее — детям» вредит?
И здесь я натолкнулась на главное противоречие современного родительства. Мы все слышали и повторяем этот благостный лозунг — «Все лучшее — детям!» Что может быть правильнее? Но именно в этой, казалось бы, святой позиции, я увидела корень невероятного зла.
Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. Стремясь дать детям все самое лучшее, мы, сами того не желая, лишили их главного — права на самостоятельность. Мы совершили подмену: под «лучшим» мы стали понимать не лучшие возможности для развития, а лучшие товары и услуги.
Психика ребенка — благодатная почва. И мы засеяли ее семенами потребительства. Ребенок, которого сытно кормят тем, что он любит, заваливают игрушками, осыпают гаджетами и возят на курорты, очень быстро усваивает ролевую модель «маленького короля». Он начинает искренне верить в свое врожденное превосходство и в то, что ему, как привилегированному сословию, дозволено все, а с него — спроса нет.
Но жизнь — не королевский двор. Рано или поздно она предъявляет свой счет. И вот эти повзрослевшие «короли» выходят в мир и начинают пожинать горькие плоды нашей «заботы». Привыкнув только брать и ничего не отдавать взамен, они оказываются в жестоком ступоре. Им мучительно трудно расстаться с иллюзией, что «мне все должны». Они ждут, что мир продолжит их обслуживать, а он вдруг требует: «Действуй! Добывай! Зарабатывай!».
И здесь наступает трагедия. Удовольствия, полученные даром, — словно наркотик. Их всегда будет мало, и всегда будет хотеться больше — больше развлечений, больше комфорта, больше роскоши. А невозможность удовлетворить эту взращенную нами же ненасытную жажду превращает их жизнь в кошмар фрустрации и вечной неудовлетворенности.
Я убеждена: детей нельзя наглухо отгораживать от жизни каменной стеной искусственного благополучия. Если они никогда не сталкивались с реальными трудностями, то первый же серьезный вызов введет их в западню, из которой будет трудно выбраться. Задача здравомыслящего родителя — не ограждать, а искусственно и дозированно создавать «контролируемые трудности».
Контролируемые трудности: искусство создавать препятствия
Именно стрессовые ситуации, препятствия и необходимость искать выход закаляют характер. Они учат самому главному: не бояться проблем, анализировать их, принимать решения и — действовать. Только так мы вырастим не потребителей, а творцов. Не иждивенцев, а сильных и ответственных личностей, способных не только взять, но и дать.
Мое сердце сжалось от сожаления, когда я осознала, что двери школы Щетинина для нас закрыты. Попасть в эту уникальную среду оказалось задачей невыполнимой — слишком много светлых умов мечтали о таком шансе. В тот год приехало поступать 600 учеников со всех уголков России. А брали всего 30, из них половина мальчиков. А вскоре, спустя год, и саму школу, этот лучик образовательной альтернативы, ждала печальная участь. Но моя решимость дать сыну закалку и сформировать в нем стержень никуда не делась. Если не получилось через творчество и созидание, придется идти другим — более суровым путем.
Через знакомых удалось договориться, чтобы на летних каникулах его взяли в военно-патриотический лагерь, на базе спецназа «Собр». Для меня это был акт отчаянной веры в то, что суровая дисциплина может дать то, что не смогла дать я.
День «Икс» врезался в память ощущением леденящей, казенной безысходности. Мы подъехали к массивным воротам, за которыми угадывалась серая территория, туго стянутая колючей проволокой и высоким, непроницаемым забором. Царила гробовая тишина, нарушаемая лишь хрустом гравия под ногами.
Сын сжал мою руку и тихо, с сомнением в голосе, спросил: «Мам, а нам точно сюда?». Не было привычного радостного гомона детского лагеря: никакой музыки, улыбающихся вожатых, веселой толкотни и знакомств. Атмосфера здесь была пронизана духом железной дисциплины и безусловного подчинения.
Его забрали молча, без лишних слов, с сухой, деловой эффективностью. Ни объятий, ни напутствий. Мне лишь сухо указали на строчку в журнале приема, где нужно было поставить свою подпись — финальный штрих, ставящий точку. «Вам сюда нельзя», — только и успела я услышать, как тяжелая дверь с глухим стуком захлопнулась за его спиной.
И всё. На этом моя материнская роль на долгие недели закончилась. Я осталась стоять перед запертыми воротами, одна, с давящей тишиной вокруг и вихрем тревоги и надежды внутри. Ему было всего одиннадцать.
Позже, делясь впечатлениями, он признавался: «Мама, если бы я заранее знал, что меня здесь ждет, я бы ни за что не согласился».
Его ждал мир, перевернутый с ног на голову. Реальность, отрезанная от прежней жизни колючей проволокой и армейским уставом. Подъем затемно, когда спит не только город, но, кажется, и сама заря. Железная дисциплина, впитывающаяся в подошвы ботинок с самого утра: каждый шаг, взгляд, движение — регламентированы и подконтрольны.
За малейшую провинность — немедленная расплата в виде приседаний до седьмого пота или изматывающих кругов по беговой дорожке. Безупречный порядок был не просто правилом, а единственно возможным способом существования: каждая вещь должна была знать свое место, быть вычищенной и выглаженной с почти маниакальной педантичностью.
Жизнь кипела в больших казарменных палатках, где на двухъярусных железных кроватях размещались десятки мальчишек, учившихся теперь быть командой. Дни были выкованы из спортивных тренировок, азарта рукопашного боя и тихих творческих вечеров, где патриотизм становился не просто словом, а искренним чувством.
А кульминацией, тем самым финальным экзаменом, стала настоящая военная операция: ночной штурм со взрывами светошумовых гранат, клубами дыма и адреналином, хлещущим через край. Но самый главный, самый сокровенный ритуал ждал их впереди. Финальный аккорд прозвучал на самой высокой ноте — в прямом и переносном смысле. Церемония награждения проходила на священной высоте 102 — Мамаевом кургане, где под свинцовым небом им вручили самый почетный трофей: синие береты. Это был не просто предмет формы, а символ преодоления, стойкости и настоящей братской дружбы, прошившей их насквозь за эти недели.
Ну и, конечно же, его поначалу напрягал спартанский быт: о разносолах и сладостях не могло быть и речи. Еда была топливом, а не удовольствием. Но именно эта, нарочитая суровость дала поразительный результат. По возвращении домой я не узнала своего сына. Куда-то вмиг исчезло его спесивое, потребительское отношение к моей готовке. Он перестал воротить нос от простых блюд. Он пробыл там не так уж долго, но перемены были разительными. Словно с него сняли тонкий слой детской инфантильности, обнажив сокровенное ядро повзрослевшего на несколько лет человека. Он не просто узнал, что такое дисциплина — он прожил ее на собственной шкуре. И этот опыт стал одним из самых ценных уроков в его жизни.
Елена Романова
Продолжение
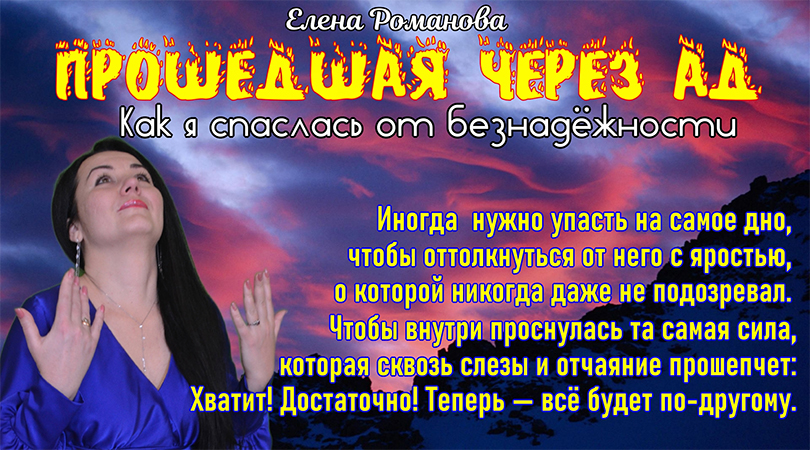 |
Другие публикации Елены Романовой:
Жмите на картинку!
 |
 |
Возвратиться в разделы: