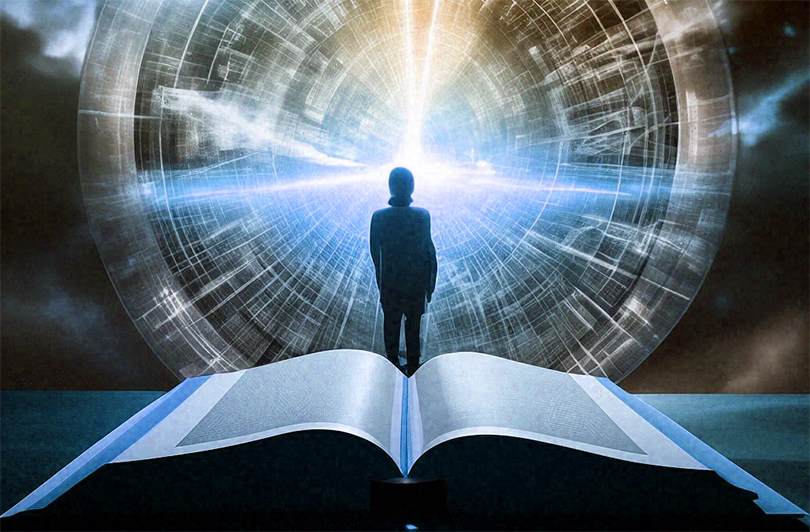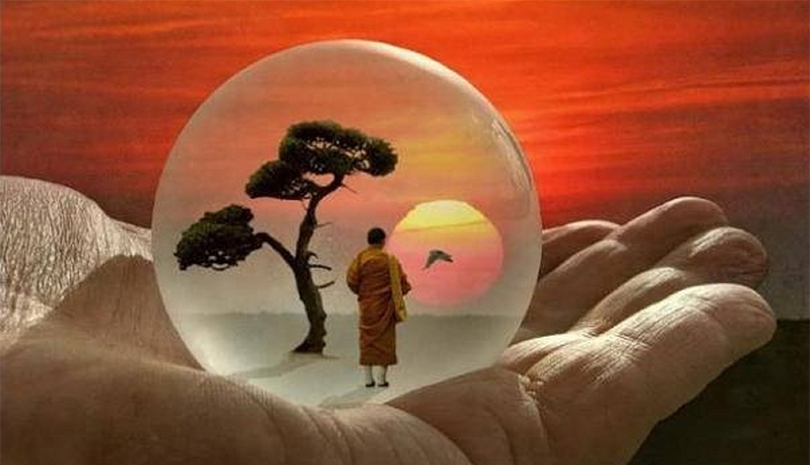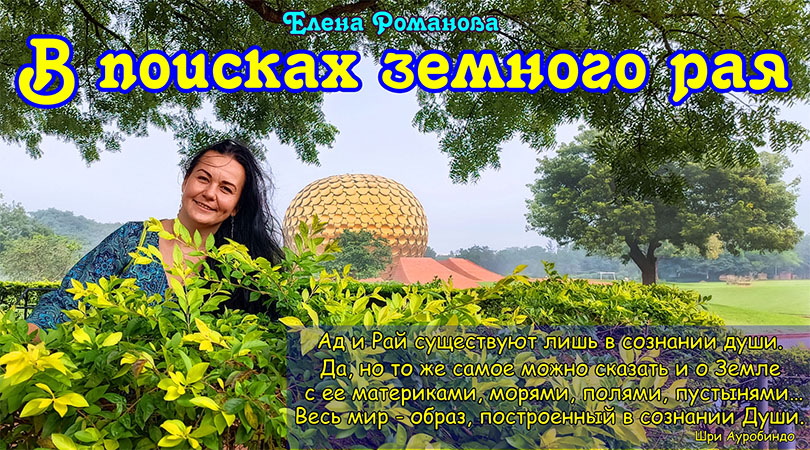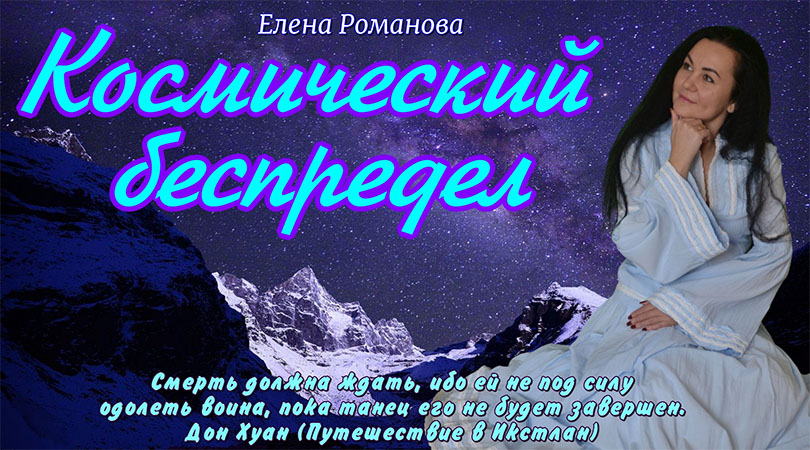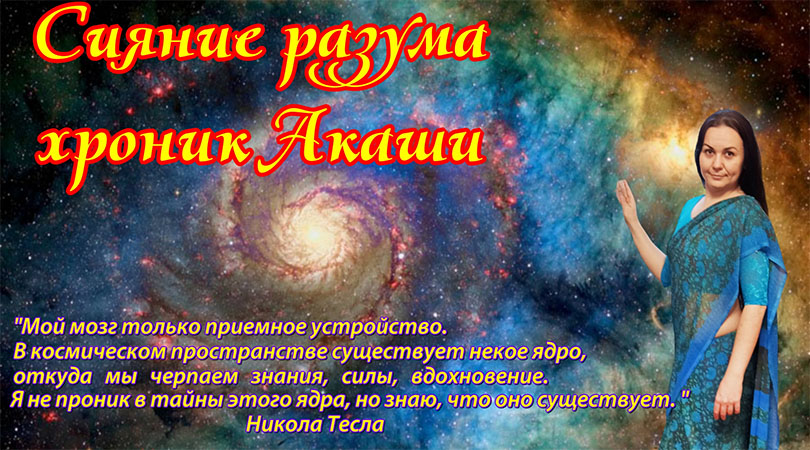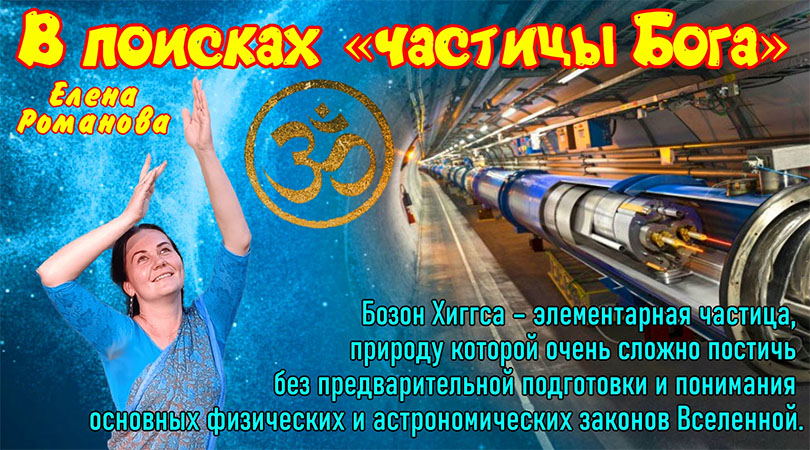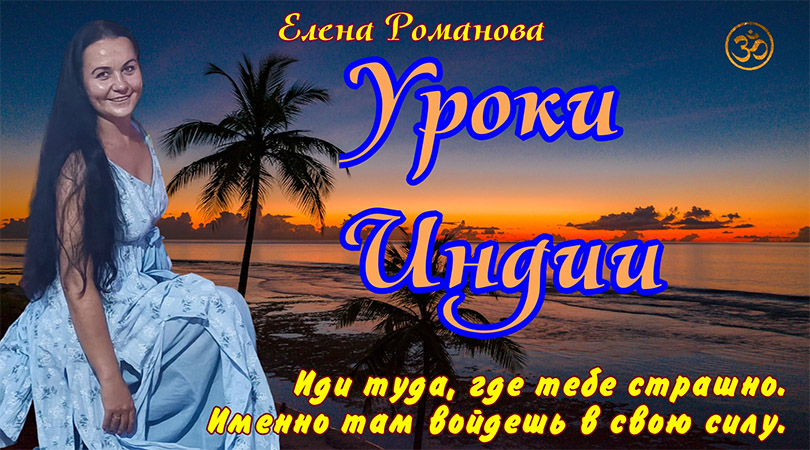Продолжение. Начало этой истории здесь.
Предыдущая глава
Первые вопросы в мире серых заборов
Есть вопрос, который, как тихая заводь, рано или поздно встречается на быстром течении жизни. В чем ее смысл? Одни натыкаются на эту глубинную задумчивость уже на излете лет, седыми и уставшими. Другие же, словно загипнотизированные мерцанием повседневности, пробегают мимо, так и не спросив себя: кто я? Откуда я пришел и для чего мне дарована эта единственная, странная и прекрасная жизнь?
Мое столкновение со смыслами случилось неприлично рано. Еще в те времена, когда главным событием дня был послеобеденный сон, а мир умещался в кармане фартучка для песочницы. Родители вели меня по знакомой, выщербленной асфальтовой дорожке в детский сад. Он торчал серой коробкой посреди такого же серого пейзажа, но для меня эта дорога была первой философской тропой.
Я шла и впитывала его всей кожей. Унылый городской пейзаж не был для меня просто фоном. Он был собеседником, задающим беззвучные, но жгучие вопросы. Ржавые гаражи, похожие на спящих роботов, чахлые деревца в бетонных оковах, тянущие свои ветки к солнцу сквозь воздух, наполненный смогом. Вся эта среда говорила мне об одном: «Вот это и есть твоя реальность. Попробуй найти в ней смысл».
Я, конечно, не знала тогда, чего хотела от жизни. Не было ни планов, ни карты будущего. Но во мне уже жило интуитивное знание — мой путь лежит не здесь. Он не здесь, среди этой бездушной геометрии дворов и подъездов. Он — где-то там, за пределами. За ржавым забором детсада, за линией горизонта, в шепоте листьев, которые говорили на языке, более древнем, чем все словари мира. Я еще не знала дороги, но уже слышала ее зов. Это ощущение было моим тихим бунтом, моим личным, еще не осознанным манифестом. Пока другие дети спорили, чья машинка быстрее или кукла красивее, я вела безмолвный диалог с ветром, что раскачивал верхушки тополей, и с облаками, плывущими в вышине. Они казались мне куда более интересными собеседниками. Они были свободными. Они не шли в детский сад.
Само здание садика было выкрашено в унылый желтый цвет, цвет подтаявшего сливочного мороженого, смешанного с пылью. Оно впитывало в себя все городские звуки – отдаленный гул автомобилей, обрывки взрослых разговоров – и перерабатывало их в гулкий, однообразный гомон за высоким забором. Забор этот, покрашенный в зеленую краску, отчего-то всегда облезал, обнажая ржавые чешуйки старого металла, был границей миров. Там, за ним, была жизнь настоящая, шумная, непонятная. А здесь, внутри, – жизнь по расписанию: каша, тихий час, прогулка по асфальтированным дорожкам и обязательная лепка из пластилина, который пах то ли химией, то ли одиночеством.
Но был у меня и свой секретный ритуал, маленький акт сопротивления. На участке, у самого края, где асфальт сминался в грудку и переходил в жухлую траву, рос старый клен. Он был немым свидетелем многих детских драм и восторгов. Его корни, как жилистые пальцы, цепко впивались в землю, пытаясь раздвинуть асфальт, и кое-где у них это даже получалось. Я садилась на эти корни, спиной к крикам и суете, и просто смотра в щель между двумя досками забора.
Оттуда, из щели, открывался мой личный портал в иной мир. Не широкая панорама, а узкая полоска: кусок серого тротуара, колесо припаркованной «Волги» и, самое главное, основание стены противоположного дома, где росла одинокая береза. Я помнила ее во все времена года. Зимой – хрупкую и черную на фоне снега, весной – с прозрачным, липким кружевом первых почек, летом – шумящую всей своей изумрудной листвой, словно рассказывающую какую-то бесконечную историю, которую я не могла расслышать, но чувствовала кожей. Осенью же она становилась похожей на костер, тихо горящий в серой пелене города.
И вот, глядя на эту березу, на упрямую травинку, пробивающуюся у колеса машины, я и задавала свой главный вопрос. Не словами, конечно. Слова были слишком грубы и неуклюжи для того, что я чувствовала. Это было чувство вопроса. Ощущение гигантской, невидимой тайны, в которую погружено всё: и я, и береза, и жук, ползущий по травинке, и далекое облако. Я чувствовала, что смысл – он не в словах воспитательницы, не в супе на обед и не в новой кофточке. Он там, за забором. Он в этом упрямом жизненном соке, что заставляет дерево рваться к солнцу, а травинку – ломать асфальт.
Моя рука сама собой тянулась к пластилину на занятиях. И пока другие лепили аккуратных зайчиков и грибочки по образцу, мои пальцы мяли серо-зеленый комок, пытаясь слепить… чувство. Чувство ветра в ветвях, печаль осеннего дождя, стойкость той самой травинки. Получались бесформенные, странные фигуры, вызывавшие недоумение. «Это что?» – спрашивала воспитательница. Я молчала. Как объяснить, что это – ответ клена и березы на мой безмолвный вопрос? Что это моя первая, наивная и потому самая искренняя молитва, обращенная в никуда и сразу – во всё.
Я еще не знала, что этот вопрос и есть тот самый компас, что выведет меня за пределы серых стен. Но я уже знала, что истина не в них. Она – в щели между досок, в шорохе листа на ветру, в тихом, необъяснимом трепете внутри собственного сердца, которое уже тогда, в том унылом садике, отказывалось мириться с тем, что жизнь – это просто дорожка от дома до забора. И ей следовало быть чем-то бесконечно большим. И я уже искала дверь.

Бунт против духовного потребительства
Шли годы. Но вырастая, мы не сразу обретаем мудрость и осознанность. Скорее, взрослея, мы просто меняем одни клетки на другие, более прочные. Чаще всего мы не выбираем путь, а подчиняемся течению тех обстоятельств, в которые нас забросила судьба. Моим течением по-прежнему оставались эти многоэтажные каньоны из бетона и стекла. Тот же удушливый воздух подъездов, пахнущий щами, старостью и чужими ссорами. Те же приземленные соседи, чьи души, казалось, усохли до размеров их же квартир, а горизонты ограничивались очередью в поликлинике и ценами на курицу.
Я жила как в аквариуме, где вместо воды была густая, вязкая атмосфера обыденности. А за стеклом, возле подъезда, клубилась своя, особая жизнь – стайки вечно матерящихся парней с пустыми глазами, в которых читалась скука, переходящая в агрессию. Их взгляды, тяжелые и оценивающие, словно пытались зацепить меня, втянуть в свой орбитальный мусор, вовлечь в круг своих убогих интересов, состоявших из дешевого пива, громкой музыки из телефона и бессмысленного трепа. Мне хотелось не просто уйти от них – мне хотелось бежать. Бежать, свернув с асфальтированных тропинок, сбить туфли о камни и ощутить под ногами не городскую грязь, а живую землю.
И я бежала. Но не ногами – сознанием. Я с тем же упорством, с каким в детстве вглядывалась в щель забора, продолжала искать свою тропу. Искала ее в книгах, где слова пахли не пылью, а иными мирами, в музыке, которая была математикой для души, в случайных разговорах с незнакомцами, чьи глаза иногда, на мгновение, вспыхивали тем же немым вопросом.

Учитель, который не давал ответов
И тут мне невероятно повезло. Моя встреча с Ольгой Евгеньевной была подобна тому, как если бы заблудившийся в густом тумане путник вдруг увидел впереди неясный, но устойчивый свет. Она не была похожа на учителей из моих школьных воспоминаний – властных, знающих единственно верный ответ. Нет. Ольга Евгеньевна была другим человеком. Она была похожа на садовника, который, видя чахлый, но упрямый росток, не выдергивает его с корнем за несовершенство формы, а терпеливо, шаг за шагом, расчищает вокруг пространство, подпитывает почву, убирает сорняки, позволяя растению тянуться к солнцу и становиться самим собой – сильным, уникальным, настоящим.
Она никогда не навязывала своего миропонимания. Вместо этого она создавала тишину. Тишину, в которой мои собственные, сумбурные и наивные «несуразицы» начинали звучать громче, сталкиваться друг с другом, обнажая свою суть. Она терпеливо выслушивала этот хаос, а потом задавала один-единственный вопрос, который был точным, как скальпель, и разворачивал все мое мышление в нужном направлении – не в сторону готовой истины, а вглубь меня самой. Она не давала рыбу, она молча указывала на удочку, лежавшую у моих же ног.
Многим людям, далеким от этого, кажется, что космоэнергетика – это некое эзотерическое учение, волшебный ключик, который объясняет человеку абсолютно все: от смысла жизни до того, почему сломался утюг. Я и сама поначалу ждала чуда, ждала расшифровки мира, поданной на блюдечке с золотой каемочкой.
Но постепенно, урок за уроком, до меня начало доходить самое главное и самое трезвое открытие. Никаких готовых решений на все случаи жизни ждать не придется. Это был не банк ответов, а строительство собственного инструмента познания. Ольга Евгеньевна не открывала мне дверь в иной мир. Она учила меня точить мой собственный ключ. И этот ключ – был мой разум, мое чутье, моя ответственность.
Мне предстояло думать своей головой. Чувствовать своим сердцем. И ошибаться. Снова и снова. Но это уже были бы мои ошибки на моем пути, а не блуждание в тумане по чужой указке. Это было и страшно, и невероятно окрыляюще. Страшно – потому что снимало с себя последнюю надежду переложить ответственность на кого-то мудрого. А окрыляло – потому что впервые в жизни я почувствовала себя не пассивным зрителем, а автором собственной судьбы. Строителем, которому выдали не чертеж, а компас и сказали: «Иди. Юг и Север – в твоей душе».
Чтение как диалог с вечностью
Как-то раз, блуждая по страницам книг в поисках хоть какого-то намека, я наткнулась на слова Джидду Кришнамурти о том, что Истина – это «нехоженая земля». Эта фраза врезалась в сознание, как удар хрустального колокола. Она была настолько чистой и безжалостной, что отсекала все лишнее. Нехоженая. Значит, на ней нет протоптанных тропинок чужих догм, нет указателей с готовыми ответами, нет лавок, где торгуют просветлением в красивых обертках.
Но что делают большинство? Они ищут не эту дикую, первозданную землю. Они с упоением коллекционируют карты, нарисованные другими. Чем старее карта, тем она кажется ценнее – вот вам религия. Чем загадочнее символы на ней – вот вам эзотерическое учение. Чем моднее и экзотичнее – вот вам новейший духовный гуру. Они с жадностью примеряют идеологии, как платья в примерочной, крича: «О, смотрите, это мне идет? Я теперь буддист! А теперь я – стоик! А теперь я соединил буддизм со стоицизмом!». Но им зачастую неважно, греет ли это платье душу, удобно ли в нем идти. Важно, как они в нем выглядят со стороны.
Их поиск – это не жажда познания, а социальное представление. Им не столь важно, в чем смысл жизни, сколь важно, как эффектно они будут озвучивать свой ответ на этот вопрос в интернете или за чашкой капучино. Они коллекционируют не опыт, а словарный запас для умных бесед. Их новые взгляды – это тот же аксессуар, последняя модель смартфона, только для внутреннего пользования: посмотрите, какой я глубокий, какой продвинутый, какой не как все.
Ярче всего это показала мне одна знакомая. Она сияла, словно нашла философский камень. «Я наконец-то нашла себя!» – объявила она, имея в виду, что нашла новую эзотерическую тусовку. Ее речь тут же наполнилась специфическими терминами, а поведение стало нарочито экстравагантным. Они «выделялись», совершая шаманские ритуалы, больше похожие на клоунаду, и гордились этой выделенностью, как подростки – пирсингом в неожиданном месте.
Но сквозь эту пеструю мишурную завесу я не видела ни капли подлинной глубины. Не видела тихого внутреннего света, который не кричит о себе, а просто есть. Это было показушничество, духовный китч, целиком рассчитанный на внешний эффект. В их поиске не было трепета перед той самой «нехоженой землей». Было лишь желание найти самый зрелищный костюм для прогулки по уже истоптанному всеми парку. Они боялись настоящей тишины и одиночества пути, предпочитая им громкий хор единомышленников, распевающих заученные гимны.
Среди этого пестрого, напыщенного хора самопровозглашенных гуру и эзотерических дизайнеров Ольга Евгеньевна казалась тихой, почти неприметной нотой. Она не стремилась к внешнему эффекту, не рядилась в псевдовосточные одеяния, не сыпала заумными терминами, чтобы оглушить собеседника. В ней не было и тени той нарочитой помпезности, что так часто маскирует духовную пустоту.
Нет, она не была «серой мышкой» — этого про нее никак нельзя было сказать. В ее спокойствии чувствовалась не робость, а сила глубокого водоема, чья поверхность гладка именно потому, что под ней — невероятная глубина. Она тихо, без малейших сомнений, знала себе цену, и это знание делало ненужными любые внешние атрибуты значимости.
Каждая наша беседа была для меня не лекцией, а живым, дышащим уроком подлинной мудрости. Самое поразительное, что она никогда не возводила вокруг меня стены. В то время как другие «учителя» с подозрением и ревностью ограждали своих последователей от «чужих» идей, Ольга Евгеньевна, наоборот, распахивала окна.
Она не говорила: «Читай только эту каноническую книгу по космоэнергетике, все остальное — ересь и вред». Не утверждала, что лишь ее путь — единственно верная дорога к истине, а все остальные ведут в тупик. Вместо этого она предлагала инструмент — трезвый, ясный ум и открытое сердце. «Прочти и это тоже, — могла сказать она, видя мой интерес к очередному автору. — Посмотри, что тебе отзовется, а что покажется фальшью. Сравни. Подумай. Почувствуй».
И я читала. Я погружалась в холодную, логичную воду западных философов, обжигалась пламенем мистиков Востока, бродила по лабиринтам современных психологических теорий. Я видела, как одни и те же истины, словно грани одного кристалла, по-разному преломляются в разных учениях. И как множество заблуждений, нарядившись в красивые одежды, кочуют из книги в книгу.
Ольга Евгеньевна учила меня не заучивать чужие ответы, а самому процессу мышления. Она помогала вырабатывать внутренний камертон, способный отличить чистый звук истины от громкого звона пустой посуды. Я училась не просто потреблять информацию, а пропускать ее через себя, отсеивать шелуху, отделять зерна глубоких озарений от плевел дешевой сенсационности. Это было воспитание вкуса к истине, иммунитет против духовного потребительства. Она давала не карту, а компас, и учила им пользоваться, не боясь забрести на самые что ни на есть «нехоженые земли».
Поначалу я засыпала Ольгу Евгеньевну лавиной вопросов, словно ребенок, тыкающий пальцем во все предметы подряд с немым «почему?». Но шло время, и поток мой постепенно иссякал. Количество вопросов становилось все меньше, но их качество, их глубина — менялись. Это происходило не потому, что я получила от нее папку с готовыми ответами на все случаи жизни. Нет. Скорее, я постепенно усвоила сам алгоритм поиска. Я поняла, куда смотреть, чтобы увидеть отблеск истины, как настраивать внутренний приемник, чтобы поймать ее тихий голос, а не громкие крики поддельных оракулов. Я научилась искать ответы не в чужих словах, а в тишине, что наступала после правильного вопроса, заданного самой себе.
Мои мысли, некогда метавшиеся в поисках опоры, теперь обрели вектор. Они были направлены ввысь — не в метафорическом, а в самом что ни на есть прямом смысле. К бескрайним тайнам Вселенной, к темным глубинам космоса, пронизанным нитями света от далеких солнц.

Резонанс с космосом: тишина вместо ответов
Однажды я пришла в Волгоградский планетарий. Старый, пропахший временем зал, скрипучие кресла, гулкий голос лектора. Но когда погас свет, и над головой вспыхнуло искусственное, но от того не менее прекрасное небо, со мной случилось нечто. Я не просто слушала лекцию о спектральных классах звезд или о туманности Андромеды. Я ловила себя на мысли, что мое сознание… созвучно им.
Это было странное, щемящее чувство единения. Не эмоциональный восторг, а глубинное, почти физическое узнавание. Я смотрела на россыпи гигантских солнц, на бездны, разделяющие миры, и не чувствовала себя песчинкой. Нет. Я чувствовала себя частью этой беспредельности. Тем же веществом, тем же светом, той же мыслью, что несется сквозь пустоту миллиарды лет. Мои атомы когда-то родились в недрах таких же звезд, мой разум был крошечной, но осознающей себя частицей вселенского Разума.
В тот миг не было ни вопросов, ни ответов. Был лишь безмолвный диалог, тихий резонанс между микрокосмом моего существа и макрокосмом, раскинувшимся над куполом. И я поняла, что мой путь — не в том, чтобы найти нечто вне себя. Он — в том, чтобы осознать эту связь, эту врожденную принадлежность к Вечности, и научиться слышать ее бесконечную музыку в тишине собственного сердца.
Истина, которую не выразить словами
Нашла ли я Истину? Сама форма этого вопроса заставляет улыбнуться. Он предполагает, что Истина — это некий статичный объект, который можно отыскать, положить в карман и предъявить по требованию, как найденный на берегу моря гладкий камень.
Но она — не камень. Она — само море. Бесконечное, живое, вечно меняющееся. Ее невозможно поймать в сети слов, расставить в ней вехи и сказать: «Вот он, путь, следуйте точно по карте». Любая попытка облечь ее в язык подобна тому, как если бы мы попытались налить океан в аквариум. Суть ускользнет, останется лишь малая часть, лишенная своего дыхания, своего масштаба и своей пугающей, величественной свободы. Истина невыразима. Она познается не через определения, а через молчаливое созерцание, через резонанс, через внезапное узнавание в себе того же ритма, что пульсирует в ядре галактики.
Поэтому я и не пытаюсь облечь ее в слова для других. Это было бы не просто тщеславной попыткой, это было бы предательством самой ее сути — живой, текучей, личной для каждого.
Я поняла лишь одно: пока мы живы, мы обречены — или благословлены — находиться в постоянном поиске. Это и есть дыхание души. Сам процесс поиска, сам трепет от соприкосновения с тайной, сам путь по этой самой «нехоженой земле» — и есть единственно доступная нам форма обладания истиной. Не как конечным пунктом, а как состоянием бытия.
И лишь тот, кто уверенно заявляет, что нашел все ответы, кто «определился» в рамках какого-либо учения, кто сложил свой духовный багаж и прекратил путь, — мертв. Не физически, нет. Его дух становится безжизненным, его сердце — окаменевшим. Он больше не слышит музыки вопросов, а значит, перестает слышать и саму жизнь. Ведь жизнь — это и есть вечное, прекрасное, не имеющее ответа вопрошание к вечности.
Елена Романова

Моя недавняя встреча с Ольгой Евгеньевной (на фото в центре) и с ее помощницей Еленой (справа)
Продолжение истории
Отзывы читателей на публикацию:
Спасибо, Леночка, за эту «тихую молитву». Читала и вспоминала свои детские-взрослые вопросы, приблизительно в семь лет. Погрузилась в то далёкое детство и просто, понаблюдала за тем, что я чувствовала тогда, что радовало, а что пугало... Насколько Ценно такое возвращение к себе и я познаю это состояние трепетно, глубоко до слёз и с благодарностью.
Моя жизнь, как сериал. Иногда нужно вернуться к первым сериям, что бы понять: а что же дальше? И как же идти дальше по этой «нехоженой земле» в поисках своей Истины? Душа откликнулась: «Иди, ищи, будь смелее, ошибайся, плачь, кричи, радуйся, огорчайся, улыбайся, читай, пиши, рисуй, танцуй.... Весь Смысл в Поиске!
Внутреннее состояние в тихой молитве, на самом деле - Исцеляет! И даёт силы продолжать поиск своей Истины.
Леночка, благодарю! Сегодня, я исцелялась.
Елена Глазунова, участница семинаров «Аура»
* * *
Как специалист, работающий с внутренним миром человека, я высоко ценю тексты, которые так честно и образно описывают процесс становления самости. Автор блестяще проводит читателя по всем стадиям: от интуитивного детского сопротивления «серой геометрии» мира через подростковый бунт к встрече с настоящим Учителем и, наконец, к интеграции опыта — принятию «моря» вместо поиска «камня». Точная критика «духовного потребительства» — это диагноз нашей эпохи. Текст — не просто эссе, это готовая методика для пробуждения собственного «вопрошания» у клиентов. Очень глубокая и терапевтичная работа.
Мария Островерхова, перинатальный психолог
* * *
Прочитал и будто встретил родственную душу. Образ Ольги Евгеньевны — это тот идеал педагога, к которому я всю жизнь стремлюсь: не давать ответы, а «распахивать окна». Очень точно подмечено про «внутренний камертон». Эту статью нужно выдавать каждому молодому педагогу как инструкцию к применению. И как же прекрасно описано детское восприятие мира — через щель в заборе, через пластилин, который пахнет «одиночеством». Это уровень настоящей литературы. Спасибо автору за искренность и мудрость.
Олег Викторович, учитель литературы с 30-летним стажем.
* * *
Леночка, у меня просто нет слов, чтобы выразить те эмоции, которые я испытала, читая твои откровения... Каждый раз, общаясь с тобой, я совершенно по-другому начинаю смотреть на многие вещи в своей жизни. То, что порой кажется важным, на самом деле оказывается совершенно ненужным. И, наоборот: мы часто не видим то ценное, что есть рядом, а именно оно может дать нам спокойствие и гармонию...
Очень многое в твоей публикации откликнулось мне: и детство, и юность, и рассказ о сыне, и понимание того, что душе нужно что - то большее... Я бесконечно благодарна Вселенной, что в моей жизни теперь есть ты и Борис Павлович.
Татьяна Чаплина, участница семинаров «Аура»
* * *
Ну, «зов земли», космоэнергетика, резонанс со Вселенной... Для меня это всё странно. Но вот описание детства и этого противного садика с зеленым забором — это прям в точку. Как будто свое детство вспомнил. И да, эти пацаны у подъезда с пивом — классика. Выводы автор делает какие-то размытые, но дорога к ним описана красиво. В целом, зашло на уровне ностальгии по тому времени, когда мир был больше и загадочнее.
Михаил, айтишник
* * *
Это просто космос! Прочитала и сижу в тишине, под впечатлением... Как же это про меня! Про детство, про то, что ты не такой, как все, про поиски себя не там, где все ищут. А про «духовный китч» — это просто гениально и так точно, я таких людей миллион знаю! Автору респект, это та самая искренность и глубина, которой не хватает в сети. Жду еще статей!
Ангелина Матрусова, блогер
* * *
Спасибо. Я как раз сейчас в том состоянии, когда ищу ответы и перебираю разные учения, чувствуя внутри какую-то фальшь. Ваш текст всколыхнул во мне что-то очень важное и забытое. То самое чувство из детства, когда смотрел на облака и думал о чем-то большем. После прочтения не стало ответов, но стало спокойнее и как будто появилось доверие к себе. Спасибо за напоминание о том, что ключ — у меня под ногами.
В.П.
* * *
Текст выстроен как идеальное эссе: от частного (личная история) к общему (философское обобщение). Язык богатый, метафоричный, но без излишней пафосности. Образы «серых заборов», «щели», «пластилина» работают от начала до конца, создавая единое символическое поле. Автор демонстрирует прекрасное владение словом и редкую способность рефлексировать. Сильное, цельное произведение.
Степан Туранов, литературовед
* * *
Как человек, профессионально изучающий гностические традиции, герметизм и современные эзотерические движения, я считаю данный текст не просто статьей, а редким и ценным свидетельством аутентичного духовного опыта, очищенного от главной болезни современного потребительского отношения к сакральному.
Автор с удивительной точностью, на примере собственного пути, демонстрирует фундаментальный принцип всех без исключения глубоких традиций: учитель не дает истину, а помогает ученику вспомнить ее внутри себя. Описанный метод Ольги Евгеньевны — это классическая майевтика Сократа, переложенная на язык современной психологии и энергетических практик. Она не передает информацию (догму), а помогает родиться знанию (гнозису) через наводящие вопросы и создание «тишины». Это прямое соответствие с принципом «познай самого себя», который был краеугольным камнем как для античных философов, так и для алхимиков, видевших свою Великую Работу (Opus Magnum) в трансформации собственной души, а не в чтении трактатов.
Особенно ценно, что автор интуитивно пришла к ключевому различию, которое подробно описывал, например, Карл Густав Юнг: разнице между символом и знаком. Знак — это условное обозначение чего-то известного (дорожный указатель). Символ же — это живое, многослойное явление, которое указывает на нечто, не выразимое иным способом. Бесформенные фигурки из пластилина, пытающиеся выразить «чувство ветра» — это и есть попытка создания личного символа, а не копирование готовых знаков (зайчиков, грибочков). Именно это — основа любого настоящего ритуала и творчества.
Критика «духовного потребительства» бьет точно в цель. Автор блистательно описывает явление, которое в академической среде называют «религиозным синкретизмом поверхностного уровня» — компиляцию внешних, самых эффектных атрибутов разных традиций без погружения в суть какой-либо одной. Это напоминает сборку конструктора из чужих деталей без собственного чертежа. Как верно подмечает автор, такой подход рождает не целостное мировоззрение, а новый «аксессуар» для эго.
Наконец, финальный аккорд — переживание в планетарии — это чистейшей воды гносис: прямое переживание единства микрокосма (человека) и макрокосма (Вселенной), которое не требует доказательств и не выражается в логических формулировках. Это то, к чему ведут все мистические пути, от неоплатонизма Плотина до квантовой физики. Утверждение, что «истина — это море», а не камень — это современная формулировка древней идеи о том, что Абсолют является процессом, а не статичным объектом.
Вывод: Данный текст — это не просто красивое эссе. Это корректное и глубокое описание вертикального духовного пути, противопоставленного горизонтальному «шопингу» духовными товарами. Автор не просто рассуждает, а демонстрирует своей историей настоящую интеграцию — обретение внутреннего компаса, который и является главной целью любого настоящего учения. Браво.
Константин Викторович, исследователь западного эзотеризма
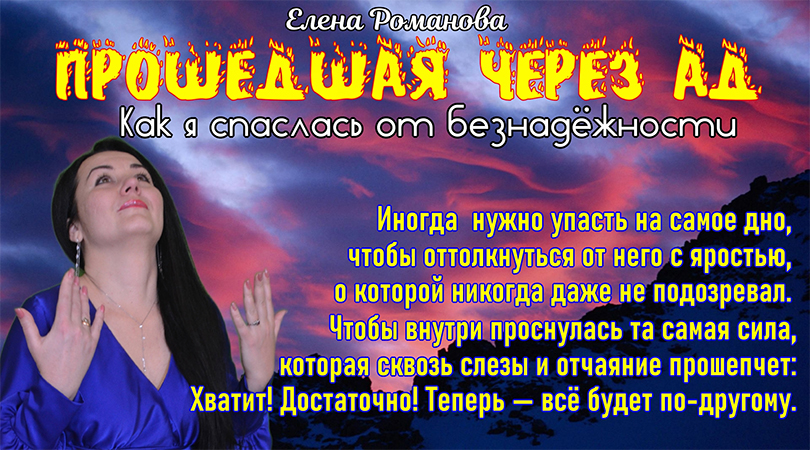 |
Другие публикации Елены Романовой:
Жмите на картинку!
 |
 |
Возвратиться в разделы: